
ლეონიდ გუბანოვის აკვარელი, პეგასი,
1970-ანი წწ.
ა
ამ რუსმა რუსეთზე დაწერა ისე როგორც ვერ დაწერდნენ ვერც ერთი პაიპსი და ბჟეზინსკი.
|
Посмотреть на Яндекс.Фотках Леонид Георгиевич Губанов – русский поэт, создатель литературного кружка СМОГ (1965г.) – «Аббревиатура СМОГ расшифровывалась обычно как «Самое Молодое Общество Гениев», лозунгом которого был: «Смелость, Мысль, Образ, Глубина», а творческий девиз — «Сжатый Миг Отражённый Гиперболой». По свидетельству Юрия Кублановского первоначально СМОГ был аббревиатурой от слов «Смелость, Мысль, Образ, Глубина», а остальные значения появились позже.» (Википедия); распалось это объединение под давлением властей в 1966 году. По предложению Губанова СМОГ 14 апреля 1965 провёл демонстрацию в защиту «левого искусства», а 5 декабря 1965 принял участие в «митинге гласности» на Пушкинской площади. Естественно, все эти действия вызвали резкое неприятие властей, и под их давлением СМОГ в 1966 году распался. А сам Губанов был помещён в психиатрическую больницу, - типичная ситуация для многих советских диссидентов… В 70-е годы Губанов работает дворником, грузчиком, рабочим в археологической экспедиции, фотолаборантом, пожарным, художником-оформителем, сторожем… В официальных изданиях Леонид Губанов практически не публиковался, - те стихи, что были напечатаны при жизни, выходили в самиздате. Большая часть самиздатовских публикаций приходится на 2-ую половину 1960-х. Умер в возрасте 37 лет 8 сентября 1983 года. Похоронен в Москве на Хованском кладбище. На мой взгляд, масштабы «феномена Губанова» на данный момент в полной мере не осмыслены.
* * *
Т. Д. В твоих глазах закат последний, Непоправимый и крылатый, – Любви неслыханно-весенней, Где все осенние утраты. Твои изломанные руки, Меня, изломанного, гладят, И нам не избежать разлуки И побираться Христа ради! Я на мосту стою холодном И думаю – куда упасть... Да, мы расстались, мы – свободны, И стали мы несчастны – всласть!.. 4 сентября 1983 * * * Вербую вербную неделю. Быть Храму! Медовым рощам и медведям бить храпом. И уходить от топоров, от пил, где я тоску сырых болот отпил, где я отведал злость и грусть, узнал по тишине холеной, что каждая лягушка — Русь со сбитой, золотой короной! Гравюра Последний галстук растаял на шее Есенина, И апрель погиб в глазах Маяковского. Вот уж сени Ада запахли севером, Вот уж серенады запахли розгами. Я лежу ногами вперед в сентябрь, Там, где пурпур осин языком обжигающим, Где за пьяными ляжками берез следят Не желанные, нет, скорей – желающие. Белые конницы моих сновидений Выпытывают то, что вчера сказал, Последние любовницы, как привидения, Борзыми бегают по моим глазам. Они меня преследуют, догоревшие свечи, Противные, холодные, холеные трупы, Смотрите, вошла Муза, и делать нечего – Обветренной щекою ищу ее губы. Но подхалимка-ночь смазала с карты Все-все-все... светлое-светлое, Приходится зажечь последнего марта Глупые милые детские сновиденья. Обожди, Муза... бархатом, инеем, Я совсем не ждал тебя, моя белая, Ведь когда не пишу, то с распутным именем Я по глупым бабам бегаю... бегаю... Но центральной иконой в душе непослушной Ты не запылишься и не заблудишься... Буду спать на камне как на подушке, Лишь бы ты рядом, зачем волнуешься?! Это, Муза, не морщины, это – волны лба, Набегают на глаза и затем откатываются... Да, я знаю, я – погиб, и моя судьба Целый век у ваших ног в любви раскалывается! Заметки на подкладке пальто Памяти Ильи Габая Прибита Троицкая лавра, прибито лобное местечко, в места не столь, откуда лапа? Откуда грозная уздечка?! В места не столь – столы накрыты, в места не столь – волков награда, в места не столь – опять копыта и гвозди для тебя по блату. И лишь природа не колышется, ее не жмут за тунеядство, салют, березки, как вам дышится? Лишь для того, чтоб не стреляться?! В крестах не стой, песок да цемент, звезда – звездой, мы камни ценим! А там, за затылком беспечного камня, звезда принимает цианистый калий! Строится Кремль, Динь-Бом, строится кем? Деньгой! Строится храм, Бом-Динь, строится храм, бандит. Ах, это брак, пьяными-то руками. Что же – всех благ, всех благ, вам, камень!.. Но пока горны поют честь и хвалу трупам, я не перережу горло и не порву струны. И пока гордый в облаках вестник, буду жить голый, как иероглиф мести. И пока нет палача моей масти, и пока скулят в моем мясе кости, я буду жить и жить, как тот нищий мастер, к которому стихи приходят в гости! И последней сволочи я брошу на карту каких-нибудь десять–двенадцать строчек про долгую жизнь какого-то заката, у которого очень кровавый почерк. Потом повернусь на своих лопатках, напишу эпиграмму другим, могильным, и останусь на всю жизнь непослушно лохматым и ругающимся матом при вашем имени! Меня не интересует мое прошлое, меня не интересует мое будущее, я живу в России, как все хорошее, и счастлив тем, что обламываю удочки. И если месяц не положат в гроб, и если звезды не загонят в тюрьмы, подарю России свой белый лоб – пусть чеканит бури... За болью ли, за драками меня, Россия, женят. Спасибо вам, как раковине, – за желчь, за жемчуг! Игровое Над красною Москвою белые кони звезд. Я крался с тоскою в беглые полдни верст. И пруд начинался запруженный в травах и птичках. И блуд зачинался за пузом лукавых опричников. И пахло телятами, Божьими фресками, жатвой. Кабак удивлял своей прозою – трезвой и сжатой. И пенились бабы, их били молочные слезы, как будто и вправду кормили их грудью березы. Вставайте, Слова, – золотые мои батраки. Застыла трава и безумны молитвы реки. Сегодня спускаюсь как в погреб, где винные бочки, в хмельные твои, сумасшедшие, дивные очи. Сегодня хочу за цыганскими песнями на вечность забыться, и только вот разве на клюкве губы ощущать твою Персию, в которую верил и Дьявол и Разин!!! Импровизация В. Хлебникову Перед отъездом серых глаз Смеялись черные рубахи, И пахло сеном и рыбалкой, И я стихотворенье пас. Была пора прощальных – раз Перед отъездом серых глаз. О лес – вечерний мой пустыш, Я вижу твой закатный краешек, Где зайца траурную клавишу Охотник по миру пустил. Прости, мой заспанный орешник, Я ухожу туда, где грешен, Туда, где краше всё и проще И журавли белье полощут. И вновь душа рисует грусть, И мне в ладонях злых и цепких Несут отравленную грудь Мои страдающие церкви. Во мне соборно, дымно, набожно, Я – тихий зверь, я на крестах, Я чье-то маленькое – надо же – На неприкаянных устах! * * * Как поминали меня - Я уж не помню и рад ли? Пили три ночи и дня Эти беспутные капли. Как хоронили меня - Помню, что солнце - как льдинка... Осень, шуршанье кляня, Шла в не подбитых ботинках, За подбородок взяла Тихо и благословенно, Лоб мой лучом обвила Алым, как вскрытая вена, Слезы сбежали с осин На синяки под глазами - Я никого не спросил, Ангелы все рассказали... Луч уходящего дня Скрыла морошка сырая, Как вспоминают меня - Этого я не узнаю! 1977 Объяснение в обиде Растаяли, а может быть расстались, Лицо – темница всех моих вопросов. Сокровище, все острова состарились И нерушимых клятв сожгли обозы. Растаяли, а может быть простились, Остыли на земле простоволосой? Каким же мы отчаяньем мостились? Душа – темница всех моих вопросов. Когда я нажимаю на перо, Как будто на курок я нажимаю – Снегурочкино счастье намело: Расстрелянные годы оживают. Как много крови, а потом воды – Все утекло, но не подайте вида, Я весь перебинтован, ну а ты, Моя беда, победа и обида?! Я знаю, что в кольчуге старых слов Бессмысленен наш робкий поединок – Шрам глубже стал, он превратился в ров И сплетнями покрыт, как паутиной. На дне его я видел ваш портрет, Два-три письма, забытое колечко, И разговор, которому сто лет: «Простимся? – Нет! Расстанемся? – Конечно!» Я к вам уже навеки не приду, А если и увижу, вздрогну тихо, Как будто на могильную плиту, Где фото есть, знакомое до крика. Злорадно, как подвыпивший палач, Шепну на ушко проходящей жертве: «Не верьте мне, моя душа из жести, И казнь была одной из неудач!» Я уши от допросов залепил Лиловым воском, головою бился – Ведь я свою же бабу зарубил, Попутал в темноте, видать, ошибся. Мне кажется, мне кажется, с тех пор – Проходит где-то рядом, в шарфик кутаясь, Забыв тот окровавленный топор, Моя свобода, а быть может – мудрость. Растаяли... но мы с тобой не снег, Скорее, мы стремительно упали, Как две звезды, целуя все и всех Своими раскаленными губами. А кто-нибудь на нас смотрел в тиши, Загадывая хрупкое желанье, Чтоб только для его слепой души Осталась ты хоть капельку – живая! В жестокий век убийц, а не святых Прости мне, ангел, мой угрюмый почерк. Но мне милей увядшие цветы, Как звезды те, что умирают ночью! Открытка Асе Муратовой Я надену вечернее платье моего легкого почерка, Посажу на голову белого голубя, А потом отнесу на твою почту Афоризмы своего разрезанного горла. Я давно не волновался в каторжный свист, И давно меня не мучит царская лесть. На крапиве растянулся мой последний горнист, И на теле у него всех царапин не счесть. Не пришел еще, наверное, прелестный срок – Взять ромашку с его губ и открыть глаза... Будет пить он и гулять, пока хочет Бог, Пока гонят лошадей ко мне четыре туза. Застегнусь ли я опять на алмазные пуговицы, Буду водку с кем-то пить, дерзкий и мраморный, Ничего я не хочу в вашей жуткой путанице – Я давно уже не ранний, но все же раненый!.. Петербург Иосифу Бродскому А если лошадь, то подковы, что брызжат сырью и сиренью, что рубят тишину под корень непоправимо и серебряно. Как будто Царское Село, как будто снег промотан мартом, еще лицо не рассвело, но пахнет музыкой и матом. Целуюсь с проходным двором, справляю именины вора, сшибаю мысли, как ворон у губ с багрового забора. Мой день страданьем убелен и под чужую грусть разделан, я умилен, как Гумилев за три минуты до расстрела. О, как напрасно я прождал пасхальный почерк телеграммы, мой мозг струится, как Кронштадт, а крови мало, слышишь, мама? Откуда начинает грусть? Орут стихи с какого бока, когда вовсю пылает Русь и Бог гостит в усадьбе Блока? Когда с дороги перед вишнями ушедших лет, ослепших лет, совсем сгорают передвижники, и есть они, как будто нет! Не попрошайка я, не нищенка, прибитая злосчастной верой, а Петербург, в котором сыщики и под подушкой револьверы. Мой первый выстрел не угадан, и смерть напрасно ждет свиданья, я заколдован, я укатан санями золотой Цветаевой. Марина! ты меня морила, но я остался жив и цел, а где твой белый офицер с морошкой молодой молитвы? Марина! Слышишь, звезды спят, и не поцеловать досадно, и марту храп до самых пят, и ты, как храм, до слез до самых. Марина! Ты опять не роздана, ах, у эпох, как растерях, – поэзия – всегда Морозова до плахи и монастыря! Ее преследует собака, ее в тюрьме гноит тоска, горит, как протопоп Аввакум, бурли-бурлючая Москва. А рядом, тихим звоном шаркая, как будто бы из-за кулис, снимают колокольни шапки, приветствуя социализм!.. Саврасов Кружок кровавой колбасы, За три копейки склянка водки. Обледенелые усы И запоздалый взгляд кокотки. От сумерек сошли с ума Усталых рук твоих развалы, И лишь картежница-зима Сквозь снег тасует – тройки, пары. Пургой обмятый, ты без чувств В сугробов падаешь бумаги, Где теплые глаза лачуг, Как проститутки и бродяги. От замороженной руки Струится пар в тепле ночлежки, И ворон делает круги, И вечер раздает насмешки. Ты наливаешь водки – в штоф Потрескавшийся, как окошко. И хорошо вам было чтоб, Вы напиваетесь с ним в лежку. Лишь сердца – трепетный паром Подрагивает в сонном теле. Не вспоминай же о былом, Как церковь рисовал пером, Когда грачи не прилетели! 15 февраля 1983 Стихотворение о брошенной поэме Посвящается А. Галичу Эта женщина недописана, Эта женщина недолатана. Этой женщине не до бисера, А до губ моих – Ада адова... Этой женщине только месяцы, Да и то совсем непорочные. Пусть слова ее не ременятся, Не скрипят зубами молочными. Вот сидит она, непричастная, Непричесанная, ей без надобности. И рука ее не при часиках, И лицо ее не при радости. Как ей хмурится, как ей горбится, Непрочитанной, обездоленной. Вся душа ее в белой горнице, Ну, а горница недостроена. Вот и все дела, мама-вишенка! Вот такие вот, непригожие. Почему она – просто лишенка. Ни гостиная, ни прохожая? Что мне делать с ней, отлюбившему, Отходившему к бабам легкого?.. Подарить на грудь бусы лишние, Навести румян неба летного?! Ничего-то в ней не раскается, Ничего-то в ней не разбудится, Отвернет лицо, сгонит пальцы, Незнакомо-страшно напудрится. Я приеду к ней как-то пьяненьким, Завалюсь во двор, стану окна бить, А в моем пальто кулек пряников, А потом еще что жевать и пить. Выходи, скажу, девка подлая, Говорить хочу все, что на сердце... А она в ответ: «Ты не подлинный, А ты вали к другой, а то хватится!» И опять закат свитра черного, И опять рассвет мира нового, Синий снег да снег, только в чем-то мы Виноваты все невиновные. Я иду домой, словно в озере Карасем иду из мошны. Сколько женщин мы к черту бросили – Скольким сами мы не нужны! Эта женщина с кожей тоненькой. Этой женщине из изгнания Будет гроб стоять в пятом томике Неизвестного мне издания. Я иду домой, не юлю, Пять легавых я наколол. Мир обидели – как юлу – Завели... забыв на кого? Москва, 11 ноября 1964 * * * Я беру кривоногое лето коня, Как горбушку беру, только кончится вздох. Белый пруд твоих рук очень хочет меня, Ну а вечер и Бог, ну а вечер и Бог? Знаю я, что меня берегут на потом, И в прихожих, где чахло целуются свечи, Оставляют меня гениальным пальто, Выгребая всю мелочь, которую не в чем. Я стою посреди анекдотов и ласк, Только окрик слетит, только ревность притухнет, Серый конь моих глаз, серый конь моих глаз, Кто-то влюбится в вас и овес напридумает. Только ты им не верь и не трогай с крыльца В тихий, траурный дворик «люблю», Ведь на медные деньги чужого лица Даже грусть я тебе не куплю. Осыпаются руки, идут по домам, Низкорослые песни поют, Люди сходят с ума, люди сходят с ума, Но коней за собой не ведут. Снова лес обо мне, называет купцом, Говорит, что смешон и скуласт. Но стоит как свеча над убитым лицом, Серый конь, серый конь моих глаз. Я беру кривоногое лето коня... Как он плох, как он плох, как он плох, Белый пруд твоих рук не желает понять... Ну а Бог? Ну а Бог? Ну а Бог? Осень 1964 * * * Я каюсь худыми плечами осин, холодного неба безумною клятвой – подать на поминки страстей и засим... откланяться вам окровавленной шляпой. Я каюсь гусиным пером на грязи всех ваших доносов с эпиграфом – сдался! И жалобы зябки, как те караси в холодной воде умирающих стансов. И полную волю однажды вкусив, я каюсь вечерней зарей перед утренней, опять разбирают глаза на Руси, как избы, и метят, чтоб не перепутали. Какая печаль была прежде всего – та в землю уйдет, на нее после ляжет и зимнее утро, и рюмка Клико, и девочка эта, что плачет и пляшет! * * * Я положу сердце под голову. Проходимцы-татары споют об угаре. Черноглазые тучи шатаются голыми, женихов между прочим, темнея, угадывают. А мосты от гулянок и весен поскрипывают, бочки в погребе рьяно для пьянок потрескивают. Как мечтал я украдкою быть со скрипкою, вместе с белой ромашкой, своей невестою. То ли ангел плачет по тонкой талии несмышленой девочки, но порочной? Опьянели вместе мы и так далее, на губах был крестик мой и прочее, прочее... Ну а ты с ума сошла, ты с ума сошла, ты кричала в крик и тому подобное, ну а после к озеру ты босиком пошла, как та знаменитая Сикстинская Мадонна. Я увидел, вздрогнул – что я увидел?! Что же натворил я – экая бестолочь. Мимо – табуны печальных событий, до крови избитые все мои невесты. Ты смущалась, плавала – шумная, шалая, и грозила пальчиком – будешь как шелковый! Скоро я покроюсь всемирною славою, ты – волной покроешься, траурным шепотом. Пусть обнимет меня полотенце худое. На красивых ногтях я поставлю две даты. До свидания, сердце мое золотое! До свидания, ангел мой, счастьем крылатый! |
|
 |
 |
 |
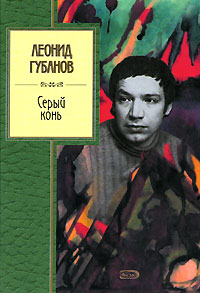





 ответить
ответить



No comments:
Post a Comment